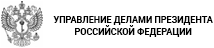Чехов, великий гражданин России, – в электронных фондах Президентской библиотеки
Среди материалов из фонда Президентской библиотеки, посвящённых 155-летию со дня рождения Антона Чехова, имеются раритеты, раскрывающие незаурядность личности писателя и ценность написанного им, а также отражающие масштаб Чехова как гражданина и патриота своего Отечества.
Своё отношение к России он выразил, прежде всего, в своих рассказах, повестях и пьесах, отрицая то с мягким юмором, то с убийственной иронией всё, что так уродовало современное ему общество, и стараясь нащупать опору в сильных сторонах натуры русского человека. В обширных материалах электронной копии книги А. А. Измайлова 1916 года «Чехов», которую можно прочесть на портале Президентской библиотеки, отражён процесс вхождения самородка, сына таганрогского лавочника в литературную жизнь тогдашней России.
Детство, из страхов и комплексов которого вырастают обычно все лейтмотивы творчества, было у Чехова отнюдь не безоблачным. Авторитарный отец своей властью нередко ломал сопротивление сыновей, совсем не мечтавших занять его место за прилавком. В своей книге Измайлов цитирует старшего брата будущего писателя Александра Чехова: «Едва ли кто поверит, – пишет он, – что этот строгий и безусловно честный писатель-идеалист был знаком в детстве со всеми приёмами обмеривания, обвешивания и всяческого торгового мелкого плутовства. Он прошёл из-под палки эту беспощадную подневольную школу целиком и вспоминал о ней с горечью всю свою жизнь».
Так вот откуда этот мобилизующий девиз, определивший смысл жизни и творчества Чехова: надо «по капле выдавливать из себя раба»! В письме издателю и другу А. Ф. Суворину он пишет о необходимости для человека чувства личной свободы: «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, бывший лавочник, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям… выдавливает из себя по капле раба».
Чехов пришёл в русскую литературу, когда русский классический роман и драма переживали кризис, и остро ощущалась необходимость влить в литературный процесс «свежую кровь». Выросший из фельетонов и заметок для сатирических журналов, чеховский стиль, основанный на наблюдательности, точности деталей, живости языка и тонком психологизме, очень быстро подчинил себе сердца и сделал начинающего писателя известным всей читающей России. Ошибались, однако, те, кто поначалу причислял Антошу Чехонте к «пятикопеечным» поверхностным авторам, «простая» проза которого доступна всем. Превосходный язык и глубина подтекста вывели её в разряд классических.
Но Чехов не был бы Чеховым, если бы развивал только блестящий и всепокоряющий беллетризм, но не думал о судьбе своей Родины. Как врач и естественник, он понимал лучше многих бесперспективность пути, по которому шла страна в тех или иных направлениях, и деятельно искал выход из тупика.
Чехов принимает решение посетить Сахалин. Остров называли «каторжным», потому что там издавна содержали людей, отбывавших каторгу или оставшихся после неё на поселении. Именно туда, вопреки мнению многих в просвещённом культурном обществе (Сахалин «ни для кого не интересен», утверждал, например, Суворин), и отправился Чехов. На Сахалине, вставая ежедневно в 5 часов утра и работая до поздней ночи, писатель провёл перепись населения. «Сахалин – это место невыносимых страданий… – писал он. – ...Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч вёрст... размножали преступников и всё это сваливали на тюремных красноносых смотрителей… Виноваты не смотрители, а все мы».
Итогом этой поездки, стоившей Чехову обострения туберкулезного процесса, стала его книга «Остров Сахалин». Строго научная, документальная в своей основе, она явилась настолько острым разоблачением каторжных порядков, что правительство вынуждено было назначить комиссию для расследования положения ссыльнокаторжных на Сахалине. И здесь сама собой напрашивается параллель с общественной значимостью одного из социологических трудов энциклопедиста Д. И. Менделеева. В научном фолианте «К познанию России», который доступен на портале Президентской библиотеки, Менделеев выполнил благородную миссию – произвёл короткий и ёмкий анализ первой планомерной общей русской переписи 1897 года, законченной в 1905 году. Дмитрий Иванович счёл своим долгом дать собственное толкование некоторым узловым моментам многотомной переписи, популяризировать ее, довести многолетний труд до умов сограждан.
Поездка Чехова на край земли русской – это и спонтанное предчувствие определяющей литературной темы XX века, которую А. И. Солженицын разовьёт впоследствии в исследовании «Архипелаг Гулаг». Чехов также предвидел экологическую катастрофу нашего времени: «Мы вырубаем леса…». А ведь их вырубали тогда простым топором. Любовь к Родине была у Чехова требовательной и взыскующей.
«В Чехове Россия полюбила себя, – напишет Василий Розанов в коллективном «Юбилейном чеховском сборнике» 1910 года, электронную копию которого можно открыть на портале Президентской библиотеки. – Никто так не выразил её собирательный тип, как он, не только в сочинениях своих, но, наконец, даже и в лице своём, фигуре, манерах, и, кажется, образе жизни и поведении». Чехов воспринимался отечественными мыслителями как футуристический прообраз русского человека, в котором, «всё… прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».
Чехов прожил недолгую жизнь. Но качество пройденного пути определяется его духовной составляющей. Жизнь Чехова – великого писателя, человека и гражданина – была именно такой, наполненной всеми токами жизни и неустанными трудами во благо других.